Натуралист-художник
А. Олексенко, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Московского института развития образования, эксперт Центра охраны дикой природы, г. Москва
Натуралист-художник
Об отечественной анималистической традиции можно говорить в широком смысле, вписывая в неё всех крупных мастеров, обращавшихся к этому жанру. Однако имеет смысл представить её и в более узком смысле. В таком случае в центре внимания оказываются, прежде всего, художники, сочетавшие в себе интерес к познанию природы и животных, с одной стороны, и к искусству - с другой. К их числу можно отнести, прежде всего, В. Ватагина, А. Комарова, А. Формозова, К. Флерова, Н. Кондакова, Г. Никольского, В. Смирина, творивших в ХХ в.
Безусловно, каждое разграничение хромает, но имеет смысл прибегнуть к нему для того, чтобы выделить самое главное, нерв той традиции, которая особым образом характеризует отечественную культуру, является её непревзойдённым достоянием и которая ныне оказалась во многом затерянной, если не утраченной. Эта ситуация особенно показательна, в частности, в книжной графике, в детской книге. Несколько поколений детей нашей страны - с конца 1980-х гг. по настоящее время - выросли, не зная близко творчества этих художников-анималистов. Симптоматично, что на прошедшей в марте этого года в Московском Доме художника выставке «Художник и книга. 2015» (более 400 художников!), помимо выполненных с глубоким знанием и любовью акварелей Вадима Горбатова, почти не было работ, посвящённых животным (речь не идёт об обыгрывании их как сказочных или «мультяшных» персонажей).
Современная анималистика нередко слишком увлечена игрой в форму, стремится к декоративности или подменяет вычурную фотографию. Весьма эффектные работы впечатляют, но что-то очень важное, проникновенное можно встретить лишь изредка. Как маленькие драгоценности светятся на выставках, например, скромные работы старейшей ученицы Ватагина Лии Владимировны Хинштейн (1922-2013). Конечно, большую роль в поддержании традиций играет подвижническая деятельность Государственного Дарвиновского музея. Замечательный прецедент - совместный проект музея и Государственной Третьяковской галереи, посвящённый 125-летию В.Ватагина. Однако в целом ситуация хотя и меняется (выходят новые издания, открываются выставки, запускаются оригинальные образовательные проекты) [1, 2], но медленно.
Тому множество причин, но в данной работе хотелось бы остановиться лишь на двух из них. Первая связана с тем, что отечественная анималистическая традиция в узком смысле не осознана как уникальное явление культуры, как классика. Вторая причина теснейшим образом переплетается с первой - не осмыслено в должной мере, классикой чего именно является данная традиция. Из первой и второй причин вытекает и третья. В нынешней перенасыщенной визуальной среде трудно вновь открыть в книге или выставочной экспозиции эту традицию, помочь увидеть в ней главное и понять, как это использовать в образовании и просвещении. Для этого необходима разработка новых форм и подходов [3].
Осознать нечто в культуре как классику означает, прежде всего, выделить высшие культурные образцы, которые служат ориентирами для поисков и движения вперёд новых поколений мастеров и становятся основой для формирования критериев оценки, для своего рода гамбургского счёта. Это позволяет понять, что дают классические образцы и без чего, заложенного в них, культура обеднеет. Другими словами, такое осознание очень важно для того, чтобы жила и процветала, была многим известна и близка традиция, о которой дальше пойдёт речь, чтобы расширялся круг художников, ей принадлежащих.
Начнём с названия. Широкое распространение получил сухой регламентирующий термин "художник-анималист". Он лишь указывает на то, что некто избрал определённый жанр, и всё. Иной смысл, устремлённый к сердцевине, к самому нерву интересующей нас темы – не столько к приверженности к одному из жанров искусства, сколько к осмыслению природы средствами искусства, – несёт американский термин "wild-life artist". Он обозначает того художника, который посвятил себя, своё творчество дикой природе. Вероятно, наиболее прямой его перевод на русский язык – "художник-натуралист". Именно так, но переместив акценты – "натуралист-художник", В.Смирин в заголовке своей статьи называет своего учителя А.Формозова [4, 25]. Однако с термином "натуралист" не всё так просто; он зарезервирован в искусствоведении за теми, кто принадлежал к одному из художественных направлений конца XIX в. Таким образом, уже начиная с названия, мы сталкиваемся с определённой трудностью. Поэтому прежде всего постараемся яснее очертить круг тех, кто не только наиболее ярко представляет данное направление, но и особенно типичен для него. При этом важно учитывать и самоопределение художников.
Если мы внимательнее вглядимся в судьбы этих людей, то нередко встретим разные вариации одного и того же мотива, связанного с определённой двойственностью пребывания на распутье двух дорог – искусства и науки. Это положение осложняется как возможностью внутреннего разлада и трудностью совместить разные творческие устремления, так и проблематичностью положения в социуме, в регламентированном профессиональном цеховом пространстве. Эта же двойственность сказывается и на оценке творчества художников-натуралистов. Для того чтобы выявить родовые черты художника указанной традиции, коснёмся вначале внешних черт его жизненного пути.
Влечение к изображению животных обычно проявляется рано. Часто поначалу оно связано с копированием их изображений, и когда юному художнику указывают на саму возможность рисовать животных с натуры, это нередко воспринимается им как откровение.
Интересно, что уже в ранних рисунках, несмотря на отсутствие наработанного мастерства и опыта, просматриваются определённые склонности. Это характерно и для юношеских работ В.Ватагина, и для сделанных в зоопарке зарисовок В.Смирина, и для многочисленных набросков в дневниках гимназиста А.Формозова.
Совсем непросто решается вопрос с образованием. Большинство выбирает естественнонаучное, зоологическое, чтобы быть ближе к природе. Что же касается собственно художественного образования, то оно редко оказывается традиционным, даже если будущий художник и поступает в вуз.
В записках А.Комарова, поступившего в 1898 г. в Училище живописи, ваяния и зодчества, читаем: "Натура – это гипсовый кусок уха, или носа, или глаза статуи Давида или какой-нибудь другой фигуры, или капители. Этот рисунок мы рисуем две недели. <...> Мне эти гипсы скучны до тошноты. Меня тянуло в зоосад к живой натуре, к живой природе. Я не мог понять, зачем это надо две недели тщательно оттушёвывать кусок гипса, добиваясь полного сходства. <...>
Я в Школе живописи проучился два года и променял её на леса, на гончих, на зайцев. В жизни почти каждого человека бывает дикий, волчий период. Такой волчий период был и у меня. Он захватил меня целиком, и я не мог ему сопротивляться. Всё было позабыто. Всё было принесено в жертву богине Диане. Тетерева, зайцы, лисы, волки были моими божествами, и я им поклонялся. Теперь я вспоминаю это время, вспоминаю охоты, поездки, бури, ливни, костры, метели и думаю – было ли это время потерянным или оно как-то сформировало, укрепило мою любовь к природе? Я жил волчьей жизнью и впитал в себя аромат лесов, краски, звуки, самую душу природы, и вот теперь на склоне лет эта душа водит моей рукой и возрождает былое. Мог ли бы я писать эти пейзажи и зверей, если бы жил постоянно в городе, в культурной обстановке? Конечно, нет" [5, 25–26].
Сказанное вовсе не свидетельствует о том, что в художественном образовании нет нужды, скорее проблема состоит в том, что традиционная академическая система обучения в художественных вузах была далека от интуитивно ощущаемых потребностей будущих анималистов. Да и получить одновременно два полновесных образования было довольно трудно. Поэтому существовали различные пути (или их комбинации) становления художника-натуралиста: неоконченное высшее художественное образование с побегом к природе (Комаров), обучение в художественной школе (студии) с последующим поступлением в университет и совмещение занятий в студии с занятиями в университете (Ватагин, Смирин). Но наиболее часто встречалось ученичество у мастера. Последнее связано прежде всего с фигурой Ватагина.
Знаменитая мастерская В.Ватагина и созданный А.Котсом Дарвиновский музей и оказались теми творческими средами, которые сыграли особую роль в формировании художников, о которых пойдёт речь в статье.
Трудности сочетания естественнонаучных интересов и художественных склонностей были связаны, в том числе, и с достаточно жестко регламентированной жизнью профессиональных сообществ в Советском Союзе. Не случайно Смирин, размышляя о судьбе своего учителя, замечает: "Конечно, серьёзное занятие рисунком трудно сочетать с научной работой, хотя рисунок очень полезен для неё. Каждое занятие, если относиться к нему серьёзно, требует слишком много времени и сил, чтобы их легко было совмещать". А.Н.Формозов говорил не раз: “Нельзя молиться двум богам”. Его тоже всю жизнь преследовало это раздвоение. Но я бы никогда не сказал, что А.Н.Формозов “молился двум богам”: у него был единственный бог – живая природа. Просто способы работы у А.Н.Формозова отличались от тех, что были у большинства людей – как художников, так и зоологов. А всему, что отличается от традиционного, трудно найти место. Отсюда и возникала проблема “раздвоения”я [б, 10]. Эти слова имеют отношение и к собственной судьбе В.Смирина, тяжело переживавшего снисходительное отношение к собственному выбору как коллег-зоологов, так и художников, редко подозревавших о плодах того титанического труда, который он взвалил на себя и самоотверженно выполнял.
Трудность "найти место" приводила к тому, что те, кто следовал данной традиции, искали "родичей по группе крови". Для Формозова таким наставником в рисунке и слове ещё с детства стал Э.Сетон-Томпсон. Неслучайно, выстраивая будущий путь, он написал знаменитому канадскому натуралисту и получил тёплый ободряющий ответ [7, б0–б1]. Смирин с юности на протяжении восемнадцати лет регулярно работал в мастерской Ватагина, глубоко почитал и Формозова (даже был его дипломником на биофаке), считая обоих своими главными учителями. И всё-таки самым главным для всех было ученичество у природы. Это, быть может, наиболее тонкая и трудная для анализа тема. Для художника, особенно горожанина, было непросто найти условия для глубокого и продолжительного общения с природой. У Формозова была возможность с детства погрузиться в природу нижегородских лесов. Затем – многочисленные экспедиции в самые разнообразные уголки Советского Союза, путешествие в Монголию, ежегодные продолжительные странствования с ружьём по глухим лесам Костромской области у Шарьи.
У Ватагина была молодость, насыщенная дальними путешествиями, вплоть до Индии, а затем жизнь, теснейшим об разом связанная с Московским зоопарком, с поездками на Кавказ, Дальний Восток, Крайний Север, в Асканию-Нова.
Смирин посвятил многие годы работе в противочумной системе в Казахстане – замечательной школе для настоящего натуралиста, а затем регулярно ездил в экспедиции в самые дальние уголки Союза. С детства он держал животных дома, а приступив к работе на биофаке МГУ, создал на Звенигородской биостанции маленький "зоопарк", за жизнью зверей в котором мог пристально и подолгу наблюдать. Среди них были бурундуки, летяги, пищухи, лемминги и многие другие питомцы, ставшие его "натурщиками".
Таким образом, анималистика для истинного художника-натуралиста становится образом жизни, которому подчинено очень многое, если не всё. Но это внешняя канва, гораздо важнее узнать, каков личностный опыт погружения в природу, соприкосновения с ней. Свидетельства об этом, о глубинных определяющих событиях, не так часто можно встретить в размышлениях художников. И тем они ценнее.
Заключая книгу "Звери в природе", В.Смирин пишет от себя и от имени брата Ю.Смирина, также художника-натуралиста и зоолога: "Ощущение чуда и "несмолкающей симфонии жизни" (выражение А.Н.Формозова) никогда не оставляло нас, когда мы видели перед собой живущих своей жизнью диких зверей. В равной мере это касалось и моржей, и горалов, и волков, и в не меньшей степени – водяной крысы, проплывающей с роскошным листом таволги под замшелыми корягами на уединённом лесном ручье под Звенигородом" [б, 28]. В этом фрагменте выделены особые переживания, запомнившиеся на всю жизнь.
Водяная крыса с листом таволги явилась взору Вадима Смирина в начале его студенческих лет, и это переживание стало, вероятно, одним из первых импульсов, которые впоследствии проросли в его глубинную способность постижения сути зверя, его облика в графике и скульптуре. Но вот что важно: в определённый момент Смирин интуитивно обрёл собственный метод погружения в жизнь зверя и вхождения в состояние рисования-общения с ним. А затем, как можно реконструировать из размышлений Вадима1 Моисеевича в книге и в текстах из его архива, он стал искать и развивать в себе способность улавливать такое состояние, дававшее впоследствии и высшие художественные результаты. Как писал К.Станиславский, вдохновение невозможно искусственно вызвать, но можно создать условия, при которых оно может появиться. Нечто подобное происходило и в данном случае.
Как пишет сам В.Смирин, впервые он осознал это как метод (и более широко – как собственный путь, ведь одно из значений метода – путь), наблюдая за сайгаками в пустынях Приаралья: "Сайгак – первый зверь, которого я рисовал в природе целенаправленно, а не случайно и путано. <...> Стоянка наша была в районе, где тогда держалось множество сайгаков. Я имел возможность посвящать отдельные дни экскурсиям за сайгаками... <...> Тогда я и понял по-настоящему разницу между рисованием и фотографированием животных. Человек с фотоаппаратом – тот же охотник; хотя он зверя и не убивает, все его поведение и последовательность действий аналогичны действиям охотника, а удачный снимок – его трофей. Работа его состоит из серии "выстрелов", каждый из которых нужно должным образом подготовить. Рисование – это не серия кадров, это длительный непрерывный процесс, когда человек должен прожить вместе со зверем какой-то отрезок жизни, измеряется ли он минутами или днями, месяцами. Несмотря на то, что тут тоже делаются отдельные наброски, отдельные листы, каждый из них требует длительных наблюдений, а вся работа идет в течение дня непрерывно. В конце концов наступает момент, когда начинаешь чувствовать себя не наблюдателем, а участником этой жизни. Вот это ощущение я всегда воспринимал как какую-то вершину жизни, оно для меня и сейчас составляет её наивысшую радость. И первыми мне подарили эту радость сайгаки на песчаных равнинах Приаральских Каракумов" [б, 19-21]. (Рисунки В.Смирина помещены на 3-й странице вклейки.)
Сделанная серия набросков – это и итог, и сам процесс общения со зверем, а иногда – свидетельство о переживании пребывания на ~вершине жизни. И тот, кому посчастливится увидеть наброски, сможет в некоторой степени тоже вступить в такое общение. Для Вадима Моисеевича все животные, от полёвки до моржа и африканского слона, были прекрасны. Близко знавшие Смирина подчёркивают, что для него было важно прежде всего понять суть того или иного зверя и гораздо менее существенно – оформить это понимание, например, в научной статье или в рисунке для монографии [9].
Таким образом, настоящее глубокое погружение в мир природы, в мир животных, связано с обретением особого опыта, который в дальнейшем даёт опору и ориентир для творчества. В связи с этим нельзя не обратиться к уникальному опыту доктора биологических наук Ясона Константиновича Бадридзе, одного из друзей и коллег Смирина. Серьёзно занимаясь изучением физиологических механизмов поведения, Бадридзе в какой-то момент понял, что изучает то, чего не знает. Но как, на каком виде животных изучить поведение в природе? Он вспоминал: 4В семьдесят чётвертом году я вышел в лес, вернулся в семьдесят шестом...я [9]. Вскоре после этого Ясон появился в Москве на биофаке, где и состоялось его знакомство со Смириным, переросшее в дружбу, увлечённое общение. Они сразу поняли, что их подходы к природе, к зверю очень близки. "Вот если бы ты ещё и рисовал, ты бы стал самым счастливым человеком", – сказал Ясону Вадим Моисеевич. Что же его так поразило?
На протяжении двух лет Бадридзе буквально жил общей жизнью со стаей волков, принимал участие даже в их охотах (!) и в то же время исследовал мельчайшие подробности их жизни. Вначале было сильнейшее напряжение, страх, но спустя девять– десять месяцев Ясон понял, что стал "своим". Стая возвращалась с охоты, он не чувствовал под собой ног и вдруг буквально напоролся на медведя и... остолбенел: 4А он на дыбы встал... Ну, честно говоря, у меня от страху, знаете, мурашки начали бегать, ни убежать, ни даже двинуться я не мог... И я, и медведь так стоим... И вдруг волки атаковали медведя. А волки его избегают и на пушечный выстрел к медведю не подходят, если взрослый медведь – тем более. Они его атаковали. И, слава Богу, медведь сейчас же встал на четыре лапы и ушёл.
Вот тогда я окончательно понял, что я – неотъемлемая часть этой группы. Раз из-за меня они атакуют медведя – ясно, каково их отношение ко мне».
3а два года было осуществлено уникальное биологическое исследование [10], но каков же результат эксперимента над самим собой?
Вы знаете, первый и, на мой взгляд, самый главный результат – не научный, естественно, а результат моего отношения вообще ко всему, к жизни, так скажем, хотя это немножко громко звучит, – в том, что я понял состояние – как можно быть частью природы. Потому что то время, которое я там прожил, я фактически не просто наблюдал за поведением этих волков, а реально стал частью той системы, в которой я и волки вместе жили. Это очень важно, по-моему. Вы представьте себе человека, который никогда прежде в жизни ничего общего с природой не имел, кроме туризма – я очень много горным туризмом занимался. Мне это нравилось: подняться на гору, посмотреть сверху на вид, но то – абсолютно другое состояние. И вдруг я сам – часть вот этой системы. И дальше у меня всякие природоохранные идеи и т.д. уже возникли на полном понимании, что значит для зверя, для меня состояние окружающей среды, каким образом человек воздействует на природу, что он делает. Это во-первых.
А во-вторых, я понял, что то, чем человек вообще гордится, присуще не только ему. Знаете, отношение к жизни реально изменилось. Меня часто спрашивали, почему я начинаю смеяться, когда какие-то там проблемы, трудности возникают. А как иначе? Да? Это тоже один из способов адаптации, так скажем, или снятия напряжения. Животные, когда им трудно, начинают играть или демонстрируют поведение, очень похожее на игру... Во всём этом есть очень много общего, и это вызывает большое уважение к животному, меняет отношение к нему. Вот из-за этого я в семьдесят шестом году положил ружьё и в жизни его больше не брал. И связано это не с какими-либо природоохранными принципами. Я чётко знаю состояние животного.
Оно очень похоже на наше. Все эти эмоциональные состояния – боль, радость, горе. Это немножко странно звучит, но у животных есть состояния, которые похожи на состояния горя у человека. Вот так.
[В беседах с Вадимом Моисеевичем] несколько раз даже речь шла о том, что если бы я умел рисовать, то вообще был бы самым счастливым человеком на свете. Потому что, он объяснял, когда делаешь зарисовки, живые рисунки, переживаешь состояние абсолютного душевного движения, так скажем. Когда ты умеешь и ловить, и фиксировать то, что в это время вокруг тебя происходит, и тем более живое, когда приходится рисовать не просто дерево или пейзаж, а зверя...
Мы очень долго и бурно обсуждали, может ли быть душевное движение у животных. Я считаю, что есть элементы. Независимо от того, есть оно или нет, всё это вызывает твоё душевное движение. Оно невероятно чисто вообще, очень чистое. Там никаких греховных, так сказать, элементов в принципе не существует, когда ты живёшь во всём этом, видишь. Фактически вы наблюдаете за первозданностью того, что вас окружает, и вы в принципе никогда этого не видели. Первый раз, когда с этим сталкиваешься, это – потрясающе».
Можно предположить, что в опыте Бадридзе В.Смирин увидел ценнейший источник, чрезвычайно важный для творчества художника-натуралиста: дар художника-натуралиста связан не только со знаниями зоолога и способностями художника, но, прежде всего, с опытом сопричастности жизни природы. И этот опыт переплавляет собственно зоологические знания и художественные средства.
Конец ХХ в. был отмечен бурным развитием целого спектра направлений философской и гуманитарной антропологии. Антропология стала формироваться как синтетическая дисциплина, стремящаяся изучить и практически освоить возможно полнее весь объём человеческого опыта. В частности, за счёт обращения к тем его слоям, которые прежде считались архаическими, либо не соответствующими канонам "строгой научности". В связи с нашей проблематикой особенно интересным оказывается направление, названное мифопоэтической антропологией (В.Топоров [11], О.Генисаретский).
В рамках этого подхода Генисаретский, обсуждая возможности освоения человеком воображаемых миров (а ведь мир леса, мир зверя также воображаем нами как целое с опорой на имеющееся знание), предлагает различать три типа ценностных переживаний. Во-первых, это чувства-события; во-вторых, более или менее плавные, долговременные движения души, и, наконец, в-третьих, неизменные и самоценные аксиоматические состояния, своего рода ценностные константы человека, образующие его личностный строй [12]. Предложенные типы ценностных переживаний легко опознаются в тех свидетельствах, которые мы приводили выше. В частности, общение-рисование, которое сумел постигнуть В.Смирин через причастное движение души к зверю, его миру, когда наблюдал за сайгаками в Приаральских Каракумах. Оно привело к обретению того состояния, которое для художника становится высшей ценностью, вершинным состоянием. О созвучном опыте свидетельствует и Я.Бадридзе. Именно эти "аксиоматические" состояния лежат в основе опыта художника-натуралиста и освещают его творческие поиски. Они оказываются своеобразной опорой самой традиции, поскольку опыт учителя может помочь рано или поздно опознать сходные состояния и его ученику. В то же время эти состояния будут иметь и в первом и во втором случаях глубоко личностную окраску.
В рамках данной статьи нет возможности углубляться в мифопоэтическую антропологию. Важнее подчеркнуть, что выход из тупика дилеммы "художник или зоолог" возможен через обращение к антропологическому синтезу: и художник, и зоолог, но прежде – человек, причастный к жизни природы.
В основе описываемой традиции лежит не выбор жанра для художественного творчества как рядоположного другим жанрам, но пронизывающее всю жизнь стремление постичь суть природы и её существ, своеобразие их облика – внешнего и внутреннего. Такое стремление определяет сам образ жизни мастера, который во многом подчинён обретению опыта проживания, опыта причастности, и художественный дар оказывается средством поведать об этом другим. Поэтому даже мастерски выполненный рисунок художника, не имеющего подобного опыта, не будет иметь, при внешней возможной эффектности, такой внутренней силы воздействия, такой проникновенности.
В результате мы уходим от внешней дилеммы "искусство или наука", понимая, что проанализированный нами ценнейший опыт может лечь в основу как научного поиска, так и художественного творчества. Он обладает и собственной значимостью, потому что воплощённый даже в небольшом наброске напрямую несёт в себе личностное отношение к зверю и облик самого животного. Отдельное детальное исследование должно быть посвящено тому, как этот опыт трансформирует художественные средства, специфику художественного акта в творчестве мастеров рассматриваемой традиции.
Отметим лишь кратко, что акцент может быть сделан не только на самих произведениях, но и на том, насколько в них передан процесс проживания опыта. Если говорить о графике, то особенно интересны и листы с множеством набросков, характерные для В.Ватагина, В.Трофимова и других анималистов, и серии зарисовок, типичные для творчества В.Смирина, и дневниковые записи с почеркушками А.Формозова. Это – творческая лаборатория, само свершение художественного акта. Такая графика быть может ценнее результата, в определённой мере она сама и есть результат. Ведь она передаёт встречу со зверем, птицей, их следами, улавливает характерные жесты животных, их позы и т.д. и т.п. И она же в не меньшей степени передаёт радость творчества, художественный поиск, абсолютное движение души самого мастера.
автор выражает искреннюю признательность Б.Смирину за возможность использования рисунков, силуэтов и фотографий из архива В.Смирина.
Литература:
- Василий Алексеевич Ватагин: К 125-летию со дня рождения / Материалы международной музейной конференции. Москва, 5-6 февраля 2009. М.: Экспресс 24, 2010.
- Аввакумов А. "Передать движение". См. на с.15–17 этого журнала.
- Олексенко А.И., Олексенко Т.Д. Как донести главное? Антропологический подход к представлению русской анималистической традиции // Василий Алексеевич Ватагин: К 125-летию со дня рождения / Материалы международной музейной конференции. Москва, 5-6 февраля 2009. М.: Экспресс 24, 2010. С. 156–165.
- Смирин В.М. А.Н. Формозов – натуралист-художник // Бюл. МОИП. Отд. биол. Т. ЬХХХ. Вып. 1. 1975.
- Комаров А.Н. Рассказы старого лешего. М., 1998.
- Смирин В.М., Смирин Ю.М. звери в природе. М., 2001.
- Формозов А.А. Александр Николаевич Формозов: Жизнь русского натуралиста. М., 2006.
- Беседа А.И. Олексенко с Я.К. Бадридзе. Москва, 11 февраля 2003 г. Расшифровка магнитофонной записи.
- Олексенко А.И. Несмолкающая симфония жизни: К 70-летию В.М. Смирина // Охрана дикой природы. 2001. Ы 4 (23). С. 29–36.
- Бадридзе Я.К. Волк: Вопросы онтогенеза поведения, проблемы и метод реинтродукции. Тбилиси, 2003.
- Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: избранное. М., 1995. С. 3–6.
- Генисаретский О.И. Воображение и рефлектированный мифопоэтизм // Генисаретский О.И. Навигатор: методологические расширения и продолжения. М., 2001. С. 289–310.
1 Владимир Моисеевич Смирин с детства предпочитал имя Вадим, поэтому автор статьи ориентируется на выбор Смирина.


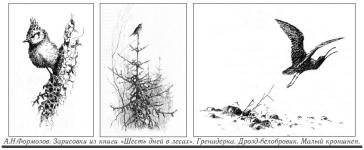








Оставить комментарий